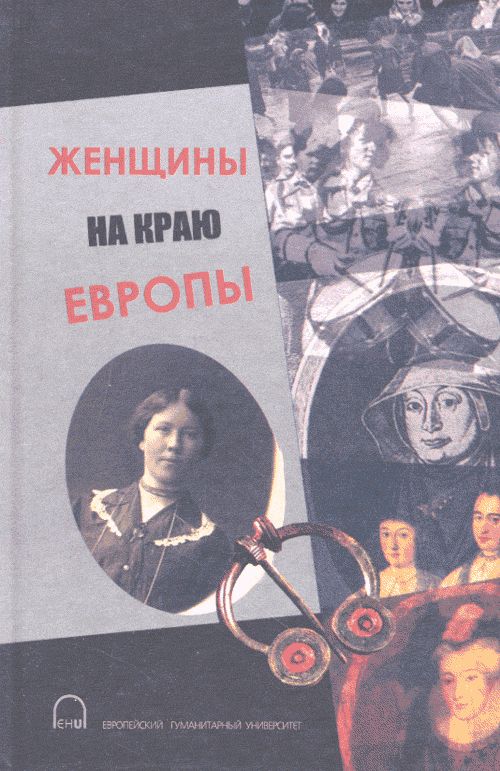Дэвид Л. Рэнсел (Блумфилд, Индиана)
Возможно когда-нибудь история человечества будет писаться
не как история политических движений, войн и революций,
а как история репродукции.
социолог Елена Гапова «Женщины на краю Европы»
Женщины Российской империи, в зависимости от этнической принадлежности, следовали различным режимам деторождения и ухода за детьми. Культурные практики населявших империю народностей отличались по таким показателям, как возраст вступления в брак, сезонность зачатия и родов, уровень младенческой и детской смертности. Возможно, что эти различия в свою очередь проистекали из более широкого культурного контекста, разделяемого представителями той или иной этнической группы, и в частности из того, как понимались ими причины заболеваний и патологии. Три различные этнические и конфессиональные группы (славяне, евреи и татары), которые проживали на территории Беларуси в тесном контакте, могут предоставить важный материал при обсуждении данной темы.
С самого начала следует подчеркнуть, что настоящая статья имеет спекулятивный характер и ставит своей целью спровоцировать дальнейшие исследования и дискуссии в области культурных практик иих значений. Эмпирическая часть исследования слишком ограничена, чтобы на ее основе выносить безапелляционные суждения о крупных культурных системах.
Начнем с обзора ситуации в Российской империи в целом. Из всех населявших ее этнических групл жизнь русского населения документирована наиболее полно и потому может послужить основой для последующего сравнения, при этом уровни младенческой и детской смертности демонстрируют разительное различие от группы к группе. Как правило, в российских источниках поздне-имперского периода приводятся обобщенные данные, отражающие положение дел в пятидесяти губерниях европейской части Российской империи. Так, в1890-х гг. (1887-1896 гг.) детская смертность (0-5 лет) в европейской Рассии составляла 432 на 1000 рожденных. Эта цифра не отражала реального положения дел, так как регистрировались далеко не все смертельные исходы.
Помимо этого, следует заметить, что ома была получена в результате обобщения данных по обширным областям с большим вкраплением других этнических групп: балтийских губерний, Польши, Беларуси и части Украины, где детская смертность была значительно ниже, чем в самой России.
Если бы вычисления основывались только на данных по губерниям с преобладанием русского населения, они показали бы, что в этих районах в последнем десятилетии XIX в. лишь около половины детей доживало до пятилетнего возраста.
В составленной мной по материалам В. П. Никитенко сводной таблице, включающей 27 губерний с преобладанием русского населения за период с 1893 по 1896 г., уровень детской смертности (возрастная группа 0-5 лет) находится на отметке 469 смертей на 1000 рожденных. И этот показатель также занижен, потому что не включает данных о нерусском населении провинций. В то же время в таблицу не вошли сведения о голодных годах, поэтому она более реалистична в оценке среднего уровня смертности, чем статистика за все десятилетие. (1)
Наиболее высокие показатели детской смертности были зарегистрированы в Московской и Саратовской губерниях, где 51,6% детей не доживали до пятилетнего возраста, 52,5% — в Тульской губернии, 53,8% — в Нижегородской и 54,5% — в Пермской. (2) Вто время как уровень детской смертности начал снижаться в течение этого периода, младенческая смертность (0-1 год) в вышеназванных 27 губерниях оставалась неизменной с 1860-х гг. (когда впервые начали вести систематический учет) вплоть до первого десятилетия двадцатого века и составляла почти треть всех рожденных. И этот показатель снова занижен ввиду неполноты учета данных. (3)
Статистика детской смертности у мусульманского населения России выглядит совершенно иначе. В то время как совокупный уровень младенческой смертности у православного населения империи составлял 284 на 1000 рожденных (а в отдельных провинциях достигал одной трети), у мусульман этот же показатель держался на отметке 166. (4)
Контраст покажется еще более разительным, если обратиться к статистическим данным по тем регионам, где православные жили бок о бок с мусульманами. Так, например, в конце прошлого века показатель смертности у православных Казанской губернии за год составил 304 на 1000, а у мусульман — 161. (5) В Пензенской губернии уровень младенческой смертности у православных в 1880-х гг. составил 342 на 1000, у мусульман — лишь 140. (6)
Какими бы невероятными ни казались эти цифры на первый взгляд они выдерживают проверку на подлинность при определении половозрастного соотношения (age-appropriate sex ratio), а также при сравнении данных переписи с семейными и подворными списками. Очевидно, муллы, которые вели систематический учет рождаемости и смертности в мусульманских общинах, выполняли свою работу добросовестно. Российский врач, практиковавший в Казанской губернии, проверил достоверность их записей за 27 лет и обнаружил, что «столь низкая цифра показанных умершими детей не зависит от недостатков, пропусков записей». (7)
Практически все в демографическом поведении татар отличало их от русских соседей: модель брака, зачатия и родов, мертворождений, младенческой и детской смертности, а также возрастная кривая женской смертности. Рождаемость тесно связана с уровнем младенческой смертности, и поскольку смертность у мусульман находилась на низком уровне, рождаемость также отставала от показателей русского населения. Важно подчеркнуть, что сезонность деторождения у мусульман отличалась от режима, которому следовало православное население того же региона. Вто время как у православных пик рождаемости приходился на летний период у мусульман подавляющее большинство детей появлялось на свет зимой.
Рожденные летом имели больше шансов умереть в младенчестве, так как подвергались воздействию множества патогенных микробов в течение жарких месяцев. Помимо этого, летом русские и беларусские крестьянки работали в поле, оставляя своих младенцев дома, где их вынуждены были кормить тяжелыми для переваривания и потенциально опасными для здоровья новорожденных коровьим молоком и грубой пищей. Мусульманки также теряли новорожденных зимой и в начале весны, но их потери были невелики по сравнению с волнами смертности, опустошавшими русские семьи в середине — конце лета.
Третья этническая группа — евреи — демонстрировала еще один жизненный уклад. Прежде всего нужно отметить, что изучение еврейского населения вызывает определенные затруднения. В течение интересующего нас периода еврейские общины Восточной Европы подверглись воздействию двух мощных интеллектуальных движений, потрясших основы их веры и жизненного уклада: радикального нативистского движения хасидизма и еврейской версии европейского Просвещения — хаскала.
Образ жизни евреев был во многом парадоксальным. В социальном и интеллектуальном отношении еврейские общины были более сплоченными, чем их соседи, и в то же время существенно отличались друг от друга. Еврейское население объединяли общее культурное наследие и духовные ориентиры, но в то же время его представители расселились на обширной территории, говорили на разных языках и занимали полный спектр социальных позиций.
Противоречивой представляется также информация о рождаемости и смертности в этой среде. Несмотря на высокий уровень урбанизации, образования и грамотности евреев, данные о ключевых моментах жизни их общин более фрагментарны, чем по другим рассматриваемым группам.
Типичный пример: в соответствии с переписью половое соотношение новорожденных в еврейской общине Минска в 70-х гг. составляло 172 мальчика на 100 девочек. В Могилеве это же соотношение было 210 к 100. Попытки исследователей-современников интерпретировать эти данные как подлинные сегодня представляются несколько комичными. Доныне некоторые полагают, что существенное преобладание мальчиков объяснялось распространенным у евреев запретом на половое сношение в течение первых 14 дней после начала месячного цикла у женщины. (8)
Какими бы ни были последствия этого запрета, очевидно, что в гораздо большей степени на статистику повлиял несистематический учет рождаемости. Так, при сравнении показателей рождаемости и смертности в еврейских общинах за 1896 г. с результатами первой Всероссийской переписи 1897 г. исследователи обнаружили, что в последней учтено несколько тысяч девочек, рождение которых не было зарегистрировано. (9)
После приведения информации к стандартному виду становится ясно, что, вопреки ряду неблагоприятных факторов, еврейское население Российской империи больше других преуспевало в сохранении своего потомства. На пороге нового столетия младенческая смертность у евреев составляла около 130 на 1000 рожденных, а детская смертность в возрасте до 5 лет — около 248. Иными словами, вдвое меньше, чем у русских. Демографы, собравшие эти данные, испытывали затруднения при их интерпретации, так как их смущали плохие санитарные условия, в которых жили евреи, их зачастую бедственное экономическое положение, а также угроза насилия со стороны соседей иных национальностей.
«По-видимому, — писал один из них, — здесь играет большую роль совокупность всех тех явлений, которые известны под общим названием культурности, притом культурности внутренней, культурности духа, ибо с внешней стороны, со стороны питания, одежды, чистоллотности, жилища и .т п., еврейская масса стоит довольно низко. Несомненно, важную роль здесь играет отсутствие в массе алкоголизма, меньшее распространение среди евреев венерических болезней и сифилиса, заботливое отношение к детям и т. д. (10)
Это объяснение, каким бы расплывчатым оно ни казалось, подтверждается наблюдениями жизни еврейских переселенцев из Восточной Европы в Новый Свет. Исследования детской смертности в Нью-Йорке выявили, что ее уровень существенно снизился в течение периода с1885 по 1915 г., что было в большой степени связано с волной иммиграции восточноевропейских евреев, в среде которых детская смертность была ниже, чем у любой другой этнической группы (за исключением шведов), и даже ниже, чем у самих урожденных американцев. (11) Так, оказавшись в более благоприятных санитарных условиях, еврейская практика деторождения и ухода давала поразительные результаты.
БЕЛАРУСЬ
На территории Беларуси уровни рождаемости и смертности варьировались в зависимости от этнической принадлежности населения, но разница была не столь разительной, как в центральных и восточных областях империи.
Рождаемость и смертность в Западном и Северо-Западном (куда входила Беларусь) краях, например, были самыми низкими по сравнению с другими регионами государства. Однако общая тенденция сохранялась: уровень рождаемости и смертности у евреев был гораздо ниже, в то время как беларусы и татары демонстрировали большее сходство.
Большинство населения Минска составляли иудеи и православные (белорусы). В1886 г. в городе проживало 36,155 евреев и 24,544 православных. Помимо этого в городе была небольшая мусульманская община (1230 человек) — преимущественно потомки крымских татар. Хотя уровень благосостояния представителей всех трех групп был примерно одинаковым (исключение составляли лишь немногочисленные православные, состоявшие на государственной службе, и зажиточные евреи-купцы), показатели младенческой смертности у православных, татар и евреев существенно разнятся. С 1877 по 1886 г. православные теряли в среднем 230 новорожденных из тысячи, в то время как для мусульман этот же показатель составлял 114, а для евреев — 109. Анализ сезонности родов и смертей показывает, что и православные, и евреи переживали пики младенческой смертности в конце зимы — начале весны и в конце лета — начале осени. (12) Очевидно, что в течение года их дети были подвержены воздействию одних и тех же патогенов и вспышек заболеваний. Но еврейки с большим успехом отстаивали жизнь и здоровье своих детей, чем белоруски.
Мусульманское население Минска было слишком невелико для обобщения данных о сезонности рождаемости и смертности. Тем не менее следует отметить, что там, где сравнение возможно, его результаты выявляют существенные отличия демографического поведении татар от славян и евреев, среди которых они жили. В то же время уклад жизни белорусских татар имел много общего с обычаями мусульман, проживавших в других областях империи. А. А. Бекаревич заметил, что в Минске татарская и еврейская общины проживали отдельно и никоим образом не смешивались. Мужчины-мусульмане носили городскую одежду принятого в Беларуси покроя, в частности длинный голубой кафтан; многие, забыв родной язык, говорили по-польски и по-беларусски. Татарки же носили традиционное национальное платье и содержали дом в чистоте и порядке. (13) Бекаревич описывал татар как честный, радушный и аккуратный народ — характеристики, повторяющиеся в этнографических отчетах о татарском населении других регионов империи. Так, хотя мусульманская община Минска состояла в основном из потомков крымских татар, свойственная им чистоплотность, а также данные об их демографическом положении (в частности, об уровне рождаемости и смертности) сближали их с поволжскими татарами. Представляется, что независимо от места проживания демографическое поведение этой этно-религиозной группы следовало своим определенным культурным моделям. (14)
Выводы трех диссертационных исследований, посвященных Могилеву и Могилевской губернии, также подтверждают дифференциацию форм демографического поведения населения по этническому признаку. Первое исследование было выполнено Л. Голынцом на основе данных за период с 1876 по 1885 г. Согласно собранной им информации, православное население города, за исключением небольшой прослойки состоятельных семей, следовало принятому в деревнях сезонному укладу заключения браков и деторождения, в то время как в среде евреев эти события происходили более-менее равномерно на протяжении всего года. Это, помимо прочего, означало, что православные матери чаще рожали детей летом, когда у тех были самые низкие шансы на выживание.
У евреев же, хотя рождаемость распределялась по сезонам более равномерно, но все же больше новорожденных появлялось зимой, в благоприятный для выживания период. Представительницы изучаемой группы православных теряли 250 младенцев из тысячи на первом году жизни, в то время как еврейки — 219. (15) Исследование, проведенное в Могилевской губернии примерно в от же время, дает схожую картину. Так, например, оно выявляет непосредственную связь между уровнями рождаемости и смертности: в силу ряда причин физиологического и социального порядка, чем больше детей выживало, тем меньше их мать рожала впоследствии. Поэтому неудивительно, что уровень рождаемости в расчете на 100 женщин Могилевской губернии в70-х гг. у православных составлял 10,48, а у евреев — 8,22. Эта разница еще более значительна в Витебской и Минской губерниях. В целом же в европейской части России уровень рождаемости у православных составлял 9,7, а среди евреев — 6,3. (16)
Самым полным исследованием здоровья населения Беларуси в этот период является диссертация Василия Кошелева. При изучении состояния здоровья жителей Могилева в 90-е г. Кошелев использовал не только необработанные данные Всероссийской переписи 1897 г., но также данные православных метрик и записи раввинов. Иоднако же Кошелев приводит невероятно низкие цифры рождаемости еврейских девочек: в пропорции 132 мальчика на 100 девочек (в то время как среднестатистическое соотношение составляет 105 к 100); следовательно, и эти показатели должны быть скорректированы, прежде чем мы примем их в качестве достоверного источника информации. После приведения данных Кошелева к стандартному виду уровень младенческой смертности в течение последних пяти лет XIX ст. составил 207/1000 у православного населения Могилева и132/1000 у евреев. (17) Эти цифры свидетельствуют о существенном улучшении ситуации за 15 лет, прошедших с момента исследования Голынца, чьи более высокие показатели вполне могли быть следствием неадекватного учета новорожденных. Однако в любом случае относительная разница показателей смертности у белорусов и евреев остается практически неизменной.
В демографическом поведении белорусов рассматриваемого периода выделяется несколько характерных черт, отличающих их от соседей-евреев. Так, белоруски выходили замуж в более юном возрасте, рожали больше детей и теряли новорожденных куда больше, чем еврейки.
Чем объясняется такая картина?
Значимым фактором тут может быть возраст заключения браков, поскольку уровень смертности детей молодых родителей был выше среднего.
Однако разница в возрасте белорусок и евреек при выдаче замуж была не настолько значительной, чтобы ее можно было считать причиной ощутимого различия уровней выживаемости потомства.
Более того, в конце XVIII в. принятый у евреев возраст замужества был ниже, чем у любой другой группы, проживавшей в регионе, и стал постепенно увеличиваться только начиная с середины: XIХ в. Подробный демографический анализ Курляндии свидетельствует, что более половины евреек выходили замуж в возрасте до 19 лет и 45% — до 25. Ранние браки были причиной раннего материнства.
Примерно 85% женщин рожали своего первенца прежде, чем достигали девятнадцатилетия. (18) Воспоминания представителей поколения конца XIХ в подтверждают, что заключение браков в подростковом возрасте было широко распространенным обычаем. (19)
Голынец пишет, что еще в 80-х гг. еврейские женщины выходили замуж в более юном возрасте, чем проживавшие в том же городе белоруски. (20)
Одной из причин заключения ранних браков среди евреев могло служить стремление оградить своих сыновей от службы в царской армии. Давая интервью для исследования по устной истории, информант Гарри Роштайн рассказал, что его отец женился в возрасте 13 лет, предположительно во избежание военной повинности. (21) Мириам Зунсер, еврейка, родившаяся в 1882 г., объясняя причину раннего брака своих родителей (отцу было четырнадцать лет, а его невесте — двенадцать), также указала на стремление уклониться от военной обязанности. (22) Во второй половине XIX в. возраст первого замужества у еврейского населения резко возрос и начал приближаться к принятому у представителей других этнических групп, проживавших в Беларуси, хотя у евреев-хасидов были отдельные случаи ранних браков. (23)
Автор медицинской диссертации 1893 г., посвященной проблемам деторождения, А. Сицынский сообщал, что уже в 80-х гг. возраст замужества евреек, жительниц Минской губернии, хотя и незначительно, но превышал возраст, принятый у православного населения. (24)
Если возраст замужества не объясняет разные уровни смертности у белорусов и евреев, то, вполне возможно, значимую роль здесь играло сезонное распределение рождаемости. По сравнению с сельским населением, среди которого они проживали, деторождение у евреев не было напрямую связано с годичным сельскохозяйственным циклом. Так, в частности, евреи избегали массового рождения детей летом, когда жизнь новорожденных подвергалась наибольшей опасности. Хотя, как уже говорилось, Бекаревич не заметила существенных различий в сезонности деторождения у православного и еврейского населения Минска, но в масштабе империи пик рождаемости у православных приходился на опасные летние месяцы, и это объясняло более высокий уровень младенческой смертности. (25)
Существенным отличием жизненного уклада евреев по сравнению с их славянскими соседями было проживание молодоженов в доме невесты. (26) Жизнь в кругу собственной семьи обеспечивала молодой женщине защиту от мужа и его родственников.
Такое положение выгодно отличалось от печального удела славянки, которая входила в семью мужа, чтобы занять в ней самое низкое положение и подчиниться власти свекрови. На нее возлагали исполнение самых тяжелых работ по дому и хозяйству, а также работы в поле во время сева, покоса, уборки урожая и молотьбы, причем факту ее беременности особого значения не придавалось. Во время полевых работ каждая пара рук была на счету. Доктор, практиковавший в населенном белорусами районе, сообщал, что женщинам приходится трудиться больше, чем мужчинам. (27)
От евреек также ожидали выполнения работ по дому и участия в семейном бизнесе, но в то же время им предоставлялась возможность строить отношения с супругом в знакомой с детства обстановке, в окружении своих родственников. Будущие матери пользовались всеми преимуществами жизни в родительском доме и поддержкой женщин своей семьи. Из собранных мною устных свидетельств следует, что традиция рожать в родительском доме была настолько сильна, что сохранилась и при Советской власти. В 1930-е и 1940-е гг. беременные еврейки возвращались рожать в родительский дом, даже если для этого им приходилось преодолеть значительные расстояния. (28)
Принятый период отдыха после родов также варьировался. Так, еврейки оставались в постели в течение восьми дней (хотя продолжительность отдыха, вероятно, зависела от социального положения и различных семейных обстоятельств). Освобождение от работы на такой большой срок свидетельствует о помощи и поддержке семьи, позволявшей молодым матерям восстановить силы, кормить грудью и укрепить связь с ребенком в течение первых дней после родов. (29)
В отличие от евреек, как отмечает Сицынский, срок отдыха роженицы-беларуски был предельно коротким. Если роды проходили без осложнений, ожидалось, что молодая мать встанет с постели в течение одного-двух дней и начнет исполнять легкую работу по дому. В семьях бедняков отдых был и того короче.
«Она встает спустя несколько часов после родов и принимается за работу; это там, где царит бедность, детей много, а хозяйка одна, и других женщин нет в доме. В страдную пору родильница на третий, а иногда и на второй день после родов идет в поле жать рожь.” (30)
Необходимость работать в поле значительно влияла на один из самых важных для выживания новорожденных факторов, а именно на режим кормления. В этом отношении еврейки и татарки находились в более благоприятном положении по сравнению со своими славянскими сестрами. У татар кормление ребенка грудью в течение первого года жизни (Коран предписывал двухгодичное вскармливание) считалось строго обязательным и приоритетным по отношению к другим обязанностям женщины. (31)
У евреев правила вскармливания были не столь четко артикулированы, однако есть свидетельства, что, оставаясь дома, еврейки имели возможность кормить грудью в течение долгого времени. Что же касается русских и беларусок, то необходимость работать на поле надолго отлучала их от дома и от ребенка. Иногда они брали младенцев с собой или же договаривались, чтобы их приносили для кормления в поле. (32) В отсутствие такой возможности детей оставляли дома на весь день, в течение которого их рацион составляла лишь традиционная соска — наполненная мукой или хлебным мякишем и завязанная узлом тряпица, предназначенная для сосания. Соска была опасным источником питания, так как с нею младенцы получали грубую пищу, переваривать которую были еще не способны, что приводило к диарее, обезвоживанию и смерти. Помимо этого, соска была источником микробов, что вызывало не менее серьезные последствия. Хотя есть свидетельства использования сосок и в еврейских семьях, в присутствии матери они применялись гораздо реже. (33) Говоря о более позднем периоде, еврейки-информантки моего исследования отмечали, что их соседи-славяне использовали тряпичные соски, в то время как евреи, если и использовали соски, то только современные, резиновые.
Что же касается чистоты и личной гигиены, картина представляется неопределенной и противоречивой. С одной стороны, большинство источников отмечали нечистоплотность евреев, грязь и скученность, свойственную их жилищам. Так, славянское население города Бердичева в 60-х тг. имело семьи из 4-5 человек на один двор, вто время как евреи проживали совместно группами до 12-13 человек. (34) В Могилеве 80-х гг. по крайней мере половина еврейских хозяйств насчитывала 10 или более жильцов. (35) Современники описывали потрясающую бедность, в которой жили евреи, представители рабочего класса. Конечно, мы не должны забывать о том, что эти свидетельства субъективны и, возможно, отражают классовую и расовую предубежденность славянского населения по отношению к семитским соседям. Но, даже если принимать это во внимание, складывается впечатление о скученности проживания и благоприятных условиях для распространения болезней среди представителей этой группы населения.
Голынец отмечал, что большинство евреев в Могилеве «живут впроголодь». Вот как описываются их жилища: «При входе в такие помещения евреев, кроме большого количества людей, находим сильную грязь и отвратительный запах от нечистоплотности, присущей данной нации». Антрополог, исследовавший этот регион, отмечал, что при домах евреев не было отхожих мест, что они справляли нужду прямо во дворе или за сараем. Двор служил также местом для сбора отходов. Из-за окружавшей их грязи евреи часто страдали экземой, чесоткой и другими кожными болезнями. (36)
В то же время личной гигиене еврейки уделяли большее внимание, чем славянки. Самым убедительным примером этому является использование миквы. Во время менструации еврейки регулярно посещали микву — баню. Миква представляла собой традиционный бассейн с проточной водой, и, если это соответствует действительности, гигиенический эффект от ее посещения был весьма благоприятным. Однако, по словам современников, миквы часто были заполнены стоячей водой, которую не меняли днями, а то и неделями. Как следствие, ее воздействие было прямо противоположно ожидаемому: миква становилась источником заболеваний репродуктивных органов. Один из врачей даже отмечал, что еврейки, заботившиеся о личной гигиене, старались избегать миквы. (37) Он же писал, что во время менструаций еврейки носили абсорбирующие повязки и меняли нижнее белье. Белоруски же, напротив, сознательно не делали этого. Во время месячных они надевали красные или черные юбки, которые скрывали пятна, и не меняли нижнего белья в течение четырех дней по окончании кровотечения. Они считали, что смена белья приведет к обильному и более продолжительному кровотечению или же сделает менструации нерегулярными. (38) Русские женщины из малообразованных слоев населения разделяли эти страхи.
По сообщению врача Н. И. Рачинского, женщины были убеждены, что смена белья во время менструации опасна, так как может нарушить регулярность кровотечения, потому «выражение «снять рубаху» — синоним выражения «закончить менструальный период». (39)
Помимо этого, к большому неудовольствию врачей, белоруски не позволяли менять солому на постели, которую они занимали после родов, будучи убеждены, что это может повредить роженице. Славянки верили, что в период менструации или родов их тела предельно уязвимы для неблагоприятного вмешательства, и потому делали все возможное, чтобы скрыть свое состояние от окружающих и избежать контакта с субстанциями, способными служить проводниками наговора или дурного глаза. (40)
Еврейки же считали собственные телесные выделения более опасными, чем способы их устранения. Истолкование источников заболеваний и ущерба от них у евреек и славянок посредством дихотомии внутреннего/внешнего может стать ключом к пониманию специфики двух культурных систем.
Так, дихотомия внутреннего/внешнего позволяет пролить свет на причины разного отношения евреек и славянок к профессиональной медицинской помощи. Врачи, работавшие в районах с преобладанием еврейского населения, отмечали готовность евреев принимать их советы. Белоруски же, по словам Сицынского, в случае бесплодия искали помощи у местных целителей, повитух и знахарей, отправлялись по их совету в паломничества, но никогда бы не обратились по этому поводу за советом к врачу. Еврейки «настойчиво лечат всякое бесплодие и, чтобы иметь детей, готовы подвергнуться какой угодно операции». (41)
Другой исследователь — врач, работавший в области массового расселения евреев, — писал, что представители медицинской профессии пользовались у них большим доверием, что евреи следовали совету медиков даже в тех случаях, когда это противоречило их религиозным установкам, например запрету на употребление свинины. В то же время, по его наблюдениям, проживавшие по соседству белорусы часто пренебрегали медицинской помощью. Этот исследователь, отзывы которого о евреях далеко не лестные, тем не менее утверждал, что ради выздоровления детей и других членов семьи они были готовы на большие жертвы. “Они привязаны к своей семье и очень чадолюбивы.” (42)
Упоминание о еврейках, готовых подвергнуться операционному вмешательству, и о врачах, прибегавших к противо-заразным методам лечения чаще, чем народные целители, позволяет предположить, что евреи были более склонны ликвидировать источник болезни внутри тела, нежели их славянские соседи. В свою очередь это означает, что еврейки уделяли больше внимания функционированию как своих внутренних органов, так и органов своих детей. И, как следствие, были более внимательны к тому, что касалось кормления и своевременной медицинской помощи. Заманчиво предположить, что корни такого отношения лежат в культуре как целом, что, например, славяне более, чем евреи, были склонны видеть причину своих несчастий и болезней во внешних силах. Или же что евреи были склонны искать внутренние причины как своих личных проблем, так и коллективных.
Так ли это? Сложно найти достаточные основания для такого рода обобщений, и все же заманчиво свести объяснение к распространенной еврейской шутке о том, что в основе жизненного уклада евреев лежит чувство вины, а не стыда, глубоко усвоенные правила поведения, а не страх публичного разоблачения. (43)
Можно также утверждать, что положительное отношение евреев к врачам является признаком произошедшей ранее, чем в других этнических группах, медикализации проблемы здоровья. В источниках содержатся указания на то, что в начале XIХ в. у евреев были распространены как практики публичного посрамления, так и страх перед воздействием сверхъестественных сил на здоровье и судьбу новорожденного.
Так, Чубинский в своем исследовании жизни еврейской общины перечисляет ряд таких верований. В частности, он описывает обычай, также распространенный и среди славян, в соответствии с которым во время родов семья роженицы снимала крышки с посуды, развязывала узлы и т. д. с целью облегчить ее страдания. Он также упоминает, что восьмидневный срок пребывания в постели после родов объяснялся стремлением избежать козней злых духов. Как Чубинский, так и Берлин описывают обычай чертить линии, якобы защищавшие от злых духов, на стенах комнаты, где проходили роды.
И хотя, как отмечает Чубинский, этот обычай быстро отмирал в более образованных семьях, люди твердо придерживались схожей традиции и подвешивали полосы бумаги, исписанные псалмами, у входа в комнату роженицы.
Берлин отмечает, что в старину публичное посрамление было распространенным явлением, особенно когда дело касалось супружеской измены. По его сведениям, грех прелюбодеяния считался источником эпидемических заболеваний, и потому обвинения в измене подлежали тщательному разбирательству, Если раввины находили ответчика виновным, следовавшее за этим наказание не было ни телесным, ни финансовым: «…они состояли в публичном посрамлении преступника. Бывало, наденут на голову преступной женщине убор из перьев, и служитель синагоги водит ее по всем улицам, а толпа с презрением смотрит на обличенную грешницу». (44) Публичное посрамление распространялось также и на мужчин. Берлин пишет, что этот способ наказания недавно вышел из употребления и что его современники прибегают к личному увещеванию согрешивших.
В том, что касалось лечения, отмечает Берлин, в среде евреев практиковали лекари разного рода, старухи-знахарки, целители-татары, а также заговариватели-шарлатаны. Количество этих людей было невелико, добавляет он, и раввины не одобряли их деятельности, потому что «сущность Моисеева закона, запрещая сие, предписывает лечиться у опытных врачей, пользующих силой природы, а не сверхъестественной силой.” (45) Тем не менее заговоры были широко распространены, особенно когда дело касалось лечения детских болезней, многие из которых считались последствием «сглаза». Каждая старуха-еврейка, пишет Берлин, знала заговоры против сглаза. Помимо этого женщины стремились защитить своих здоровых и красивых младенцев от дурного наговора, наделяя их отталкивающими прозвищами, например, «мой арапчонок». (46) В целом же как евреи, так и славяне стремились защитить свое потомство способами, в основе которых находилась вера в магию и сверхъестественные силы.
Представляется, что различие коренится в долгой традиции врачевания и предпочтения евреями естественных способов исцеления. В императорской России евреи довольно рано стали учиться врачебному делу в массовом порядке. В1889 г., когда они составляли лишь 4% населения страны, более 15% всех мужчин-врачей были евреями. Что касается евреек, их присутствие в медицинской профессии было еще более ощутимым: они составляли 24% женского медперсонала страны. В Беларуси процент еврейских врачей был выше, чем в других регионах империи и составлял четверть всего медицинского персонала, что почти вдвое превышало долю евреев в населении региона. (47)
Говоря о медицинском обследовании Могилева, В. Кошелев отмечает, что евреи раньше других стали прибегать к профессиональной врачебной помощи, чем, по его мнению, объясняется относительно низкий у них показатель детской смертности. Как и другие, он описывает скверные условия существования евреев и признает, что их успех в сохранении детей должен объясняться другими причинами. «По состоятельности они [евреи), в среднем, если и отличаются от христиан, то в отрицательную сторону; питание и квартиры их ни в каком случае не лучше; но несомненно, что уход за детьми более внимателен; при всяком заболевании дети в большинстве случаев не остаются без медицинской помощи, и если потребуется, то родителями прилагаются все старания к рациональному уходу и питанию их». (48)
Сведения о жизни евреев в других регионах империи подтверждают, что в целом евреи с большим доверием относились к врачам и оказываемой ими медицинской помощи, чем православное население. Автор отчета о состоянии здоровья населения Елизаветграда указывал, что, вопреки распространенному мнению о нечистоплотности и телесной слабости евреев по сравнению с другими народами, эпидемии среди них более редки, и причина тому — своевременное обращение за медицинской помощью, чего бы это ни стоило. Во время эпидемии ветрянки 1907-1908 гг. заболеваемость еврейских детей и женщин была ниже, чем у представителей других групп. Это объяснялось тем, что в течение нескольких лет, предшествовавших вспышке, евреи проходили систематическую массовую вакцинацию. Естественно, что у детей старшего возраста, не подвергшихся вакцинации, уровень заболеваемости был выше. (49)
Таким образом, благодаря своим традициям евреи ранее своих соседей стали считать медицинскую помощь не только приемлемой, но и необходимой, а также располагали большим количеством профессионалов-медиков, заботившихся о здоровье членов общины.
Заключение
Хотя трудно найти однозначное объяснение тому, почему беларуски и еврейки столь по-разному преуспевали в уходе за детьми в первые, самые опасные месяцы и годы их жизни, можно предположить, что существенную роль могло играть различие представлений и повседневных практик, свойственных их культурам. Так, после замужества еврейки проживали в родительском доме, и во всем, что касалось ухода за ребенком, пользовались поддержкой семьи. Замужние белоруски, напротив, переселялись в семью мужа, где помощи было ожидать не от кого.
Обязанности евреек позволяли им оставаться дома, в непосредственной близости от своих детей, кормить грудью и не прибегать к грубой пище, наполнявшей соску до тех пор, пока ребенок не сможет переваривать ее. Белоруски же зачастую работали вдали от дома, в огороде или в поле, и это обстоятельство вынуждало их вскармливать детей коровьим молоком и грубой пищей, которые могли привести к нарушениям пищеварения и болезни.
В случаях если ребенок заболевал, еврейки чаще обращались к медицинской помощи, возможно потому, что в их культуре решающим в вопросах здоровья было принято считать функционирование внутренних органов тела, или же потому, что в результате урбанизации и доступа к медицинскому образованию еврейские общины подверглись медикализации прежде их соседей-славян.
Наконец важна и еще одна причина: представляется, что евреек первыми из населения региона усвоили то, что мы сегодня называем моделью современной нуклеарной семьи, в которой благополучию детей отводится центральная роль. В такой семье детей считают источником нравственного удовлетворения, а не, как это бывало раньше, потенциальным источником дохода и опорой престарелых родителей.
Вероятно, причина такого отношения к потомству коренится в том, что евреи, будучи малочисленной и маргинальной группой, связывали свое выживание с фактом благосостояния каждого отдельного члена общины и, как следствие, с особым вниманием относились к уходу за подрастающим поколением.
Выражением такого положения может послужить приведенное в нашей статье наблюдение антрополога М. Г. Яковенко, что евреи были «очень чадолюбивы», а также приведенные этнографом П. П. Чубинским высказывания евреев об их отношении к детям: «Пока я здоров, я должен позаботиться о своих детях и иметь в них кусочек наслаждения (Ein Schtikele nachos), если Бог сподобил меня дожить до этого, ведь это же все, что я могу вкушать из земных радостей”. (50)
Перевод Е. Князевой
Примечания
- Никитенко В. П. Детская смертность в Европейской России за 1893-1896 годы. СПб., 1901. C. 226-29.
- Рашин А. Г. Население России за 10 лет, 1811-1913 г. М,. 1956. С. 198.
- Там же. .С 194. Всоответствии с моим индексом в 27 провинциях Российской империи младенческая смертность находилась на уровне 324 на тысячу новорожденных.
- Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. Пг., 1916. .С 14.
- Там же. С. 45-46; Детская помощь. 1892. No 13. C. 461-462.
- Никольский В. И. Санитарное исследование Пензенской губернии: статистика населения городов и уездов за 10 лет (1880-89 гг.). Пенза, 1893. С. 56.
- Ершов С. Материалы для санитарной статистики Свияжского уезда. СПб., 1888. .С 113.
- По этому вопросу см:. Guttentag Marcia and Secord Paul F. Too Many Women? The Sex Ratio Question. Beverly Hills, 1983.
- Биншток В. И., Новосельский С. А. Материалы по естественному движению еврейского населения в Европейской России за 40 лет (1867-190б). Пг., 1915.С. 24.
- Там же. C. 3-4.
- По моим подсчетам, если вычесть данные о младенцах, рожденных от матерей — выходцев из Австро-Венгерской и Российской империй (в большинстве евреек), то уровень младенческой смертности в Нью-Йорке 1915 г. повысился с 98 до 105 на 1000 новорожденных. Подсчеты основываются на статистике, опубликованной Мейером в: Meyer Ernst Christopher. Infant Mortality in New York City. New York, 1921. P. 32-35.
- Бекаревич А. А. К изучению в медико-топографическом и статистическом отношении губернского города Минска. СПб., 1890. .С 38, 95.
- Там же. С. 38.
- О сравнении жизни мусульман различных регионов империи см. мое исследование: Infant-Care Cultures ni the Russian Empire // Russia’s Women: Accommodation, Resistance, Transformation / Eds. Barbara Evans Clements et al. Berkeley, 1991. P. 123- 124.
- Голынец Л. К изучению в медико-топографическом и статистическом отношении губернского города Могилева. СПб,. 1887. С. 32-45. Я привел данные о еврейской общине кстандартному виду, компенсировав таким образом неполный учет новорожденных девочек.
- Данные и анализ взяты из книги под ред. А. С. Дембровецкого «Опыт описания Могилевской губернии. Могилев на Днепре, 1884. .Т.3С. 20-21.
- Кошелев В. В. Медико-топографическое описание города Могилева на Днепре. СПб., 1901. C. 53, 73.
- Plakans Andrejs and Halpern Joel M. An Historical Perspective on Eighteenth Century Jewish Family Households in Eastern Europe: APreliminary Case Study// Modern Jewish Fertility / Ed. Paul Ritterband. Leiden, 1981. P. 26-27.
- Maimon Solomon. Solomon Maimon: An Autobiography / Ed. Moses Hadas. New York, 1947. P. 24-30; Zunzer Miriam Shomer. Yesterday: AMemoir of a Russian Jewish Famil / Ed. Emily Wortis Leider. New York, 1978. P. 1.
- Голынец Л. К. К изучению… С. 26-27.
- L’Gaffin Dennis Being Jewish ni Tsarist Russia: Indecency, Ostracism, and Yiddishkait ni Oral History / / International Journal of Oral Histor. No 7. Vol. .1 1986 (February). .P 20.
- ZunzerM.S.Op.cit..P.1
- Silber Jaques. Some demographic characteristics of the Jewish Population in Russia at the End of the Nineteenth Century / / Jewish Social Studies. Vol. 13. No 3-4. P. 276- 278; Чубинский П. П. Труды этнографической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским русским географическим обществом. Т. 7. Вып. 1. Гл. 1: Евреи иудо-западного края. СПб., 1872. С. 35-56.
- Сицынский А. .ААкушерская помощь вМинской губернии (1880-1889 г.). СПб,. 1893. C. 19-22.
- Новосельский С. А. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике России / / Календарь для врачей всех ведомств на 1916 год / Под ред. П. Н. Булатова. Ч. 2. Пг., 1916. С. 53.
- Берлин М. Очерк этнографии еврейского народонаселения в России. СПб., 1861. С. 62; Чубинский П. П. Евреи… С. 43.
- Эйгольц И. Р. (Eikhgol’ts). Материалы кантропологии белорусов. Рославльский уезд. СПб,. 1896. С . 18-19.
- Интервью автора с Фирой Абрамовной / Ленинград, 12 июня 1990; Интервью автора с Фаиной Самуиловной Вулах (Филадельфия, 16 ноября 1994); Интервью автора с Ханой Рабинович (Филадельфия, 16 ноября 1994).
- Чубинский П. П. Евреи. С 51. Данные о других регионах империи того же периода подтверждают такое положение. Так, в материалах по исследованию населения Ставрополя читаем: «Еврейки во время беременности и кормления грудью бывают менее заняты на трудных работах, чем крестьянки; более берегутся, более посвящают времени на попечение о детях» (Снигирев В. Осмертности детей на первом году жизни. Опыт медико-статистического исследования в Ставропольской губернии с 1857 по 1862 год. СПб., 1863. С. 15). Винтервью для моего исследования по устной истории три еврейки-информантки также упоминали о восьмидневном или недельном послеродовом отдыхе. Данная традиция была распространена среди городского населения и при Советской власти.
- Сицынский А. А. Указ. соч. С. 83.
- Более подробно о традициях татар см.: Ransel D. Infant-Care Cultures… P. 123-131.
- Сицынский отмечал, что в южных районах белоруски носили люльку с новорожден- ным с собой на поле, где е подвешивали на треноге. См.: Указ. соч. С. 95.
- М. Г. Яковенко писал, что «соска у евреев в большом ходу,» но не упомянул, из чего эта соска была изготовлена // Материалы кантропологии еврейского населения Ро- гачевского уезда, Могилевской губернии. СПб., 1898. С. 14.
- Чубинский П. П. Евреи…. С. 22.
- Голынец Л. К. Кизучению… С. 23.
- Там же; Яковенко М. Г. Материалы к антропологии… .С 9, 15-16.
- Сицынский А. А. Указ. соч. .С41-42; сходные наблюдения находим в»Микве» уЮ. Гюб- нера / / Архив судебной медицины. 1868. No 1и у П. И Небольшина в «Очерках частного быта евреев» // Записки императорского Русского Географического Общества, по отдел. этногр. СПб., 1876. Т. 3.
- Сицынский А. А. Указ. соч. С. 41-42.
- Рачинский Н. И. Главные моменты в истории развития акушерства / / Журнал акушерства и женских болезней. 1901. No 3. С. 388.
- Сицынский А. А. Указ. соч. С. 58-63.
- Ta же. C. 83.
- Яковенко М. Г. Матермалы к антропологии… С. 15.
- Антрополог Рут Бенедикт (Ruth Benedict) и другие утверждают, что одним культурам для поддержания порядка свойственно опираться на внешние меры, ассоциируемые с чувством стыда и боязнью публичного посрамления, в то время как другие культуры в тех же целях культивируют внутреннее чувство вины, причиной которого становится предосудительное поведение, не ставшее достоянием общественности. Однако понятия стыда и вины трудно дифференцировать. Как заметил Клиффорд Гиртц (Clifford Geertz), идеи стыда и вины, по крайней мере в английском языке, обладают общими характеристиками. Так, стыд в некотором смысле предлолагает осознание своей виновности, хотя и достигает полной силы только при условии публичного разоблачения (Geertz Clifford. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York, 1973. P. 401).
- Берлин М. Указ. соч. С. 32-33.
- Там же. С. 33.
- Там же. С. 34.
- Цифры приведены по: Nancy Mandelker Frieden. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856-1905. Princeton, 1981. Appendix IV.
- Кошелев В. Медино-топографической описание города Могилева на Днепре. С. 72.
- Weissenberg S. Das Verhalten der Juden gegen ansteckende Krankheiten // Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden. No 7. H. 10, 1911 (October). S. 139-140.
- Чубинский П. П. Указ. соч. С. 124.
Сведения об авторе:
- Рэнсел Дэвид (Ransel David) — директор Института российских и восточно-европейских исследований, профессор истории в университете Индианы. Являлся ответственным редактором Slavic Review (1980-1985) и American Historical Review (1985-1995). Опубликовал десятки статей и шесть книг по российской истории. Его последняя монография — «Vilage Mothers: Three Generations of Change in Russia and Tataria» (Indiana University Press, 2000). В настоящее время занимается изучением русской провинциальной купеческой семьи XVIII в. и устной историей рабочих в московских промышленных пригородах конца Х в.
Источник текста: Женщины на краю Европы / Под. ред. Е. Гаповой. — Мн.: ЕГУ, 2003. — 436 с. ISBN 985-6723-12-4.
Авторы собранных в данной книге текстов, задавшись целью осуществить исторические реконструкции женского опыта, женских практик жизни и (шире) гендерных отношений как центральной категории социальной организации, связывают свои исследования с землями, которые в различные исторические периоды назывались Литвой, Великим княжеством Литовским, Польско-Литовским содружеством, Северо-Западным краем Российской империи, БНР и БССР. Представленные статьи стремятся вернуть в историю женские имена и женскую деятельность; выявить и легитимизировать в качестве исторических новые темы либо поставить во главу анализа ранее не принятые категории. Они расположены в различных точках на пути между традиционной и гендерной историей: одни тексты ближе к традиционной истории, другие ушли от этой традиции в сторону деконструктивистских подходов.
Издание адресовано историкам, философам, политологам, социологам, культурологом, а также всем, кого интересует гендерная проблематика.